|
Рождение журналиста
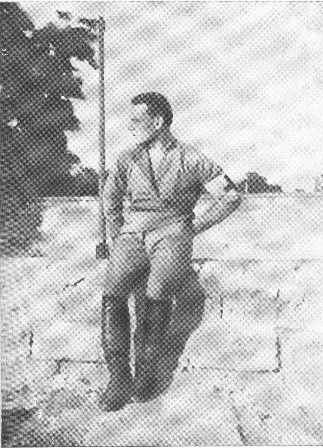 Среди звезд первой величины русского литературного небосклона прошлого века особой ясностью, чистотой и силой доброго света выделялось имя замечательного писателя Константина Георгиевича Паустовского. В 1965 году Шведская королевская академия самым серьезным образом рассматривала вопрос о присуждении Паустовскому Нобелевской премии по литературе. В пользу Константина Георгиевича тогда высказался сам шведский король, чьему мнению придается в таких случаях особое внимание. Однако в последнюю минуту большинство академиков склонилось к тому, чтобы на этот раз сделать Нобелевским лауреатом Шолохова.
Среди звезд первой величины русского литературного небосклона прошлого века особой ясностью, чистотой и силой доброго света выделялось имя замечательного писателя Константина Георгиевича Паустовского. В 1965 году Шведская королевская академия самым серьезным образом рассматривала вопрос о присуждении Паустовскому Нобелевской премии по литературе. В пользу Константина Георгиевича тогда высказался сам шведский король, чьему мнению придается в таких случаях особое внимание. Однако в последнюю минуту большинство академиков склонилось к тому, чтобы на этот раз сделать Нобелевским лауреатом Шолохова.
Не хочу ничего плохого сказать об авторе «Тихого Дона», но все же данное решение было принято явно под влиянием обстоятельств и даже можно сказать – под нажимом Москвы. Кремль хотел, чтобы самая престижная премия мира была вручена всецело преданному большевистской ортодоксии Шолохову. А так как за несколько лет до этого Шведская королевская академия уже позволила себе без оглядки на Москву назвать Нобелевским лауреатом неугодного Кремлю Пастернака, после чего разгорелся нешуточный скандал, не учесть мнения Советов вторично означало вступить с СССР в откровенную конфронтацию. А этого Запад накануне разрядки не хотел…
Впрочем, Паустовский не стал хуже и не получив Нобелевской премии. Скорее наоборот: Нобелевская премия проиграла от того, что этот замечательный мастер слова не осчастливил ее своею причастностью к ней…
Паустовского как бесподобного литератора-лирика, как непревзойденного писателя-романтика знает и любит всякий по-настоящему образованный человек. Причем не только на его родине, но и далеко за ее рубежами.
Но Константин Георгиевич был не только прекрасным беллетристом, но и блистательным журналистом-газетчиком. И, что должно быть особенно интересным для ярцевчан: как журналист,
Паустовский сделал первые свои шаги в тупике железнодорожной станции Ярцево летом 1915 года.
Дело было так. В 1915 году санитарный поезд, в котором юный студент Императорского Московского университета Константин Паустовский служил санитаром, по дороге из первопрестольной на Западный фронт сделал остановку в Ярцеве: начальнику поезда было предписано получить непосредственно на Ярцевской фабрике постельное белье для раненых. То ли ассортимент необходимых изделий был велик, то ли сказалась какая-то другая причина, но простоял этот поезд в железнодорожном тупике более трех суток. Белье получал непосредственно начальник поезда. А рядовые санитары использовали эти подаренные им Богом три дня для отдыха. Правда, отдыхать довелось не всем. Товарищ Паустовского, санитар Николай Романин, к тому времени успевший опубликовать в радикальной вятской газете несколько публицистических материалов с собственными впечатлениями от виденного на войне, узнав о том, что Константин уже публиковался в гимназические годы в Киеве как беллетрист, буквально «насел» на друга, заставив его тоже попробовать свои силы в газетной публицистике («Черкани два-три очерка»). Паустовский «черканул» лишь один очерк – «Синие шинели». Но зато – какой! Романин сразу понял, что перед ним – Мастер от Бога.
Николай Романин, вроде бы, «черкавший» очерки пачками, тем не менее, постоянно жаловался на то, что ему трудно поднимать военные темы, служа в санитарном поезде. Оно, вроде бы, полевой санитарный поезд находился «впритирку» с войной: и подходили эти поезда к фронту «ближе некуда», и при погрузке раненых нередко несли потери в своем составе (погрузка осуществлялась зачастую в зоне орудийного, а то – и ружейного огня неприятеля), и по дороге до тылового госпиталя война санитарам сопутствовало нечеловеческое физическое и нравственное перенапряжение… Но все же… Все же это – не передовая. А потому – и очерки получались не в результате собственного ощущения боя, а – «со слов» в боях побывавших… Но вот – очерк Паустовского…
Как-то, будучи в Брест-Литовске, санитары этого поезда наблюдали длиннющую колонну австрийских пленных, взятых нашими в плен при взятии крепости Перемышль. И вдруг кто-то из товарищей Паустовского вскрикнул от удивления: в этой колонне шел солдат, как две капли воды похожий на Костю… Заметили это и австрияки. Так и глядели ошалело: наши – на того австрийского солдата, пленные – на Паустовского. Потом в санитарном поезде долго обсуждали такое редчайшее визуальное сходство. Но одно дело – просто поудивляться. И совсем другое – глубоко продумать случившееся…
И вот в своем очерке Паустовский рассказал об этой встрече и о своих размышлениях вокруг нее. Скорее всего, пришел к выводу начинающий очеркист, его двойник был по национальности украинцем, как и сам Константин Георгиевич (тогда Закарпатская Украина входила в состав Австро-Венгрии, и ее уроженцы призывались под знамена Франца Иосифа). И вот теперь два удивительно похожих друг на друга человека и, скорее всего, два соплеменника, оказались разделенными линией фронта и при определенных обстоятельствах должны были стремится убить друг друга. Только и разницы было у них, что на одном была надета серая русская, а на другом – синяя австрийская шинель… Да и другие люди в синих шинелях, что шли в одной колонне с двойником автора очерка, мало чем отличались от таких же простых людей, рожденных в Сибири, в Поволжье, в Подмосковье. Как и наших, их тоже доставала смерть. А не доставала – так, как и наши, они тоже корчились от боли на операционных столах… И тут уже богатейший опыт военного санитара прочно лег в ткань очерка. Его личные наблюдения позволили начинающему очеркисту ярко продемонстрировать читателям весь ужас войны, особенно неприглядной, когда видишь не ее парадную сторону с развевающимися знаменами и боем барабанов, а сторону тыловую, не выпячиваемую, часто – потаенную: с горячечным дыханием раненых, с их стонами, бессознательными криками «мама», с отрезанными и брошенными в тазы конечностями, с распоротыми брюшинами, с кровавым месивом на месте того, что совсем недавно было человеческим лицом, с резкими запахами пота и крови, с ошметками кала…
Прочитав этот очерк, любой нормальный человек просто не мог не испытать потрясения. Такие словесные клише, как мужество и стойкость воинов, самоотверженность врачей, сестер милосердия и санитаров и многое что еще превращались из абстрактных, не трогающих за душу понятий в конкретные, повергавшие в оторопь ощущения, доступные даже тем читателям, которые находились за тысячи верст от линии фронта. И, самое главное, этот очерк во весь голос заявлял об абсурдности, никчемности и преступности войны как таковой – ужасного явления, которое так любят расписывать всеми красками радуги дураки и негодяи…
Тот очерк был с восторгом встречен вятской редакцией (напомню: газета, с которой сотрудничал Романин, и куда по его протекции был направлен журналистский дебют Паустовского, была радикальной, не разделявшей официальной точки зрения на необходимость участия России в мировой кровавой бойне «до победного конца»). Однако, последующие попытки Константина Георгиевича продолжить разговор, начатый этим очерком, были пресечены цензурой решительно и беспощадно. Неблагонадежный мыслитель был с треском изгнан с санитарного поезда. Это было большим ударом для Паустовского: трепетно любивший Россию, он считал своим долгом быть в трудную минуту там, где мыкают горе лучшие сыны Отечества. К этому добавлялись и личные мотивы: два старших брата Константина, молодые прапорщики (тогда звание прапорщика было офицерским и соответствовало нынешнему званию младшего лейтенанта) Борис и Вадим Паустовские, незадолго до того сложили свою юные головы на бескрайних полях войны. Страдавший ужасной близорукостью (в десять диоптрий), не пригодный к участию в боевых действиях, Константин едва добился своего включения хотя бы в штат полевого санитарного поезда… И вот ему отказывают в доверии, обвиняют чуть ли ни в измене Родине. Но разве говорить правду – это изменять Родине?..
Впрочем, ему еще крепко повезло: вскоре о нем забыли, и все ограничилось лишь изгнанием из санитаров…
Вот такой очерк (сразу привлекший к себе внимание, как читателей, так и цензуры) был написан Паустовским не где-нибудь, а в вагоне санитарного поезда, стоявшего в тупике станции «Ярцево»…
Интересно? Безусловно. Но это еще не все…
Прежде всего, отмечу, что сам Константин Георгиевич в своей автобиографической «Повести о жизни», упомянув о своем первом очерке, не указал, что он был написан в Ярцеве. О том, что, как журналист, Паустовский родился на берегах Вопи, я узнал из статьи уже известного читателям Николая Романина, опубликованной в книге «Воспоминания о Паустовском» («Советский писатель», 1978). Значит, прежде всего, нас должен заинтересовать вопрос: почему о месте своего журналистского рождения автор очерка «Синие шинели» умолчал? Прежде всего, не могла не сказаться особая скромность этого человека: уж он-то никак не стремился раскидать по всему лицу земли русской мемориальные памятники своему имени. Работая над тем или иным своим очерком или рассказом (или, впоследствии – более крупными литературными произведениями: повестями, романами) Константин Георгиевич фиксировал все свое внимание именно на работе, а не на «себе, любимом». И, скорее всего, он просто не запоминал: где писалась та или иная вышедшая из-под его пера строка. В «Повести о жизни», уже упоминавшейся выше, он, вспоминая время своей службы в санитарном поезде, признавался: «…Я помню… одну занесенную избу на выселках.
Я даже толком не знаю, в какой это было губернии - Казанской ли, Тамбовской или Пензенской… Я увидел многие русские города и фабричные посады, и
все они слились своими общими чертами в моем сознании… Россия предстала передо мной
только в облике солдат, крестьян… с их скудными достатками и щедрым горем…». Иными словами, как и подобает подлинному художнику, Паустовский не отвлекался на мелочи, а – концентрировался на главном. А в 1915 году главным для него было то, что
он написал очерк о преступности войны, а не то, что
этот очерк был написан в Ярцеве.
А вот Николай Романин, сразу понявший, что перед его товарищем Костей – великое литературное будущее, прекрасно запомнил и время, и место, и обстоятельства рождения первого очерка Паустовского.
Однако, неверным было бы считать, что Ярцево не имеет никакого касательства к факту появления прекрасного очерка, а, значит – и к рождению ярчайшего журналистского имени.
Факт создания первого журналистского произведения Паустовского именно в Ярцеве не слишком значим лишь внешне. Но была еще и внутренняя, глубинная взаимосвязь между местом и фактом написания очерка «Синие шинели». И она была очень важной.
Всякий, кто когда-либо всерьез брался за перо, согласится со мной: хороший газетный или литературный материал не может появиться на Свет Божий без особого толчка, без той последней капли, которая переполняет чашу готовности к творчеству и «превращает количество в качество» – сумму данных, необходимых для написания статьи, очерка, рассказа или повести в саму статью, в сам очерк, в сам рассказ, в саму повесть. Вернее, можно написать и без этого толчка, без этой капли, но тогда то, что в конечном счете выйдет из-под пера, лишь с натяжкой можно будет отнести к журналистскому или литературному произведению. Литая проза без этих самых толчка и капли не рождается.
«Синие шинели» – образец литой прозы. Значит, эта самая заветная капля капнула именно в Ярцеве. А что это могла быть за капля? Или, иначе говоря, что могло явиться последним побудительным мотивом для создания очерка?
Напомним: очерк начинался с рассказа о колонне военнопленных, которую санитары поезда, где служил Паустовский, наблюдали в Брест-Литовске. Но тогда, в этом западно-белорусском городке, сразу после встречи Паустовского с его двойником, очерк не родился. Очерк родился в Ярцеве. Военнопленных здесь не было. А что было?
Снова вчитаемся в строки «Повести о жизни». Чуть далее того уже процитированного выше места, где Константин Георгиевич писал о том, что виденные им тогда деревни, города и фабричные посады слились своими общими чертами в его сознании, он еще отметил вот что: «…и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены». А что было самым типичным, чем тогда были наполнены русские города и веси? Война. Она касалась не только тех, кто дрался с врагом на передовой, не только соприкасавшихся с нею «впритирку» сотрудников санитарных полевых поездов, но и очень многих жителей «глубокого тыла». Видимо, всмотревшись в жизнь ярцевских женщин и детей, проводивших на фронт мужей и отцов и заменивших ушедших здесь, в тылу, а еще – постоянно боявшихся за родных людей, которые невесть где и невесть за что ежесекундно рискуют своими жизнями, Паустовский почувствовал тот самый особый толчок, ощутил ту самую последнюю каплю, которая переполнила чашу готовности к созданию страстного антивоенного очерка.
Образно говоря, до этого жизнь собирала хворост: одну большую вязанку кинули пришедшие на братьев похоронки, другую – впечатления, полученные при погрузке раненых в зоне прямого обстрела со стороны неприятеля, третью – бессонные ночи у операционных столов и подвешенных к потолку носилок в санитарном поезде, четвертую – встреча с двойником – австрияком. А теперь вот какое-то наблюдение, какой-то мимолетный разговор, какая-то неожиданная встреча в «фабричном посаде» Ярцеве замкнули окончательно все полученные ранее впечатления и все продуманные ранее думы в единую цепь и осенившая молодого литератора мысль о том, что война всюду безобразна, противоестественна, никчемна, абсурдна и преступна ударила огненной искрой в эту щедро заготовленную громаду хвороста. И – ярко полыхнул костер: огромный костер журналистского мастерства Паустовского.
Владимир ЛИСОВСКИЙ
|
